Герменевтика Келлера: пример, которому церкви стоит последовать?
«Дискуссия с Келлером: размышления над богословием влиятельного евангелиста»
Данная статья является переводом главы из книги Engaging with Keller («Дискуссия с Келлером»), в которой 6 богословов, преподающих в различных пресвитерианских богословских университетах освещают различные заблуждения в трудах Тимоти Келлера.
Автор: Др. Ричард Хольст
Перевод: Анна Тощева
Редактура: Владимир Силенок
Введение
Д-ра Келлера справедливо считают эффективным оратором. Его стиль убедителен и талантлив с точки зрения риторики. Читая его работы, практически слышишь его голос. В этом Келлер идеально следует совету своего образца для подражания К.С. Льюиса: «Всегда пишите (и читайте) ушами, а не глазами. Вы должны слышать каждое предложение, которое пишите, как если бы его прочли или произнесли вслух».[1] Немногим христианским авторам удалось последовать совету Льюиса, но Келлер – отрадное исключение. Церкви нужно больше одарённых ораторов, и нам всем следует последовать в этом его примеру.
Тем не менее, задача служителя заключается в чём-то большем, чем просто эффективная коммуникация. Резюмируя природу христианского служения, Павел объясняет его с точки зрения верности в распоряжении «тайнами Божьими» (1 Коринфянам 4:1-2, 9:17, Колоссянам 1:23-25). Если это так – если в конечном итоге о нас следует судить по тому, насколько верно мы передаём информацию, а не по эффективности передачи, — то нашей первостепенной задачей всегда должно оставаться верное толкование Писания.
Наш труд по толкованию Библии, воистину, является сущностью всего, что мы делаем. Поэтому проповедник или автор обязан подкреплять свои окончательные выводы тщательным исследовательским трудом и обеспечить обоснованную выборку этой работы, чтобы дать своей аудитории возможность узнать, что он учит Божьим истинам, а не своим собственным взглядам. Конечно, нам нет нужды в каждом предложении выставлять напоказ все свои экзегетические изыскания, но нашей аудитории необходимо знать наверняка, что все наши выводы обоснованы. Более того, ради достижения этой цели наше толкование должно соответствовать общепринятым принципам герменевтики. Именно так мы оцениваем и проверяем выводы в ходе христианской дискуссии.
В этом отношении – в плане демонстрации хорошей герменевтической практики – уже не столь очевидно, что труды Келлера представляют собой лучший пример для подражания.[2] Сразу оговоримся, никто не сомневается, что в своих работах он намеревается передать содержание Библии; очевидно, что таково его желание. Не подлежит сомнению и то, что толкование Келлера чаще попадает в цель, чем мимо. Вопрос в том, насколько постоянно Келлер придерживается в своих работах хорошей герменевтической практики, и, в частности, следует ли церкви считать его труды образцом для подражания.
Не хотелось бы, чтобы создалось впечатление, будто мы придираемся к Келлеру по спорным вопросам, поэтому для начала рассмотрим общепринятые нормы герменевтики. Иногда полагают, что герменевтика сама по себе – не более чем туманное стремление руководствоваться личным мнением, а не признанные стандарты. Подобный подход к Библии был бы почти столь же катастрофическим, как и её прямое отрицание. К счастью, Писание само объясняет нам, как именно следует его читать. Более того, все эти принципы ясно и чётко сформулированы в традиционных конфессиональных документах. Конкретное заявление по практике толкования, которое послужит отправной точкой для нашей дискуссии, находится среди «Вестминстерских стандартов» — в частности, в «Вестминстерском исповедании веры» (ВИВ) и в «Справочнике общественного поклонения» (СОП) в разделе «О проповеди Слова».
Вестминстерская герменевтика
Реформатскую позицию по герменевтике вполне можно определить как Вестминстерскую позицию.[3] Фундаментальный принцип, выдвинутый церковнослужителями, заключается в том, что Писание само интерпретирует себя. В тот момент, когда de rigueur возникает обращение к Библии откуда-то извне, постулат о том, что «непогрешимое правило толкования Писания есть само Писание» (ВИВ, 1:9), вносит столь необходимые коррективы. В числе прочего, это означает, что небиблейские источники не могут контролировать нашего толкования текста. Какие бы идеи ни предлагали сторонние дисциплины – такие, как социальная антропология, литературная теория, иудаизм Второго Храма и дискурсивный анализ, — ни одна из них никогда не должна становиться ключом к пониманию Писания.
Этот фундаментальный принцип также означает, что при возникновении вопроса об истинном и полном значении Писания мы обращаемся к нашему базовому инструменту – analogia scripturae (аналогия Писания). Иными словами, богодухновенное Писание является своим собственным руководством по толкованию. Согласно «Вестминстерскому исповеданию», «не все в Писании равным образом понятно само по себе, или же одинаково ясно для каждого» (ВИВ, 1:7); бывают моменты, когда правильное понимание отрывка не столь очевидно. Как бы то ни было, в таких случаях нам «следует исследовать и познавать другие места, говорящие об этом более ясно» (ВИВ, 1:9).
При всей его простоте, этот замечательный принцип определённо нельзя назвать примитивным. Сравнение текстов требует понимания их доктринального содержания и дидактической важности. Вот почему принцип analogia scripturae фактически является синонимом протестантскому понятию analogia fidei (аналогия веры) – способности верно интерпретировать Писание, опираясь на твёрдую веру, основанную на нём.
Таким образом, нам никогда не следует полагаться на измышления или своё личное мнение в понимании того, о чём на самом деле учит Писание. Более того, когда текст не говорит о чём-то напрямую, мы применяем принцип неизбежного вывода: «Весь замысел Божий относительно того, что необходимо для Его собственной славы, спасения человека, веры и жизни — либо ясно изложен в Писании, либо с правильной и очевидной последовательностью может быть выведен из него» (ВИВ, 1:6). Вестминстерская Ассамблея основательно позаботилась о том, чтобы защитить метод интерпретации, избежав, с одной стороны, ложного толкования, а с другой – вездесущей угрозы эйзегезы (то есть прочтения в тексте того, что хочешь в нём увидеть). Первое является результатом поверхностных сравнений, а последнее – продуктом герменевтической предрасположенности.
Конечно, есть место и для экзегетических различий. Сама Ассамблея не была чем-то монолитным с точки зрения герменевтики; церковнослужители признали это, согласившись, что далеко не все места Писания одинаково «просты». Но они были озабочены тем, чтобы продолжать исследования и дебаты в границах согласованной системы и квинтэссенции учения, ставшего стандартом доктрины и традиции для всех англоговорящих реформатских церквей. Конфессиональная герменевтика обеспечивает необходимую гарантию защиты от экзегетических, герменевтических и доктринальных искажений, при этом оставляя и сохраняя безопасную среду для исследований и дискуссии.
Будучи людьми Реформации, мы не должны страшиться этих параметров. Мы должны принять их в качестве безопасного и надёжного руководства, коим они и являются. В то же время, нам не следует поддаваться анахроничному умонастроению, согласно которому Ассамблее не удалось решить все современные проблемы, а раз так, нам следует разорвать шаблоны и плыть против течения. На самом базовом уровне, «нет ничего нового под солнцем» (Екклесиаст 1:9), и во многих случаях новые ошибки являются лишь повторным искажением старых ересей, о которых и прежде было известно церковнослужителям. Что касается тех нескольких моментов, которые остались в стороне, именно по этой причине в определённый момент истории пресвитерианские церкви внесли в текст «Исповедания» некоторые изменения. Как бы то ни было, почти четыре столетия спустя подобные модификации остаются крайне малыми и незначительными, свидетельствуя не об отсутствии активности в церкви, а о достаточности «Вестминстерского исповедания». В той мере, в какой оно является точным и всеобъемлющим резюме библейской доктрины, «Исповедание» во все времена остаётся не менее верным и обоснованным, чем само Писание. Если позаимствовать выражение из современной теории герменевтики, «Вестминстерское исповедание» установило «надкультурные» истины и принципы. Это определённо относится к тому герменевтическому методу, который оно нам преподаёт.
Суть этой преамбулы заключается в том, что успешное толкование не зависит от интуиции или личной предрасположенности, а строится на твёрдых принципах и точных методах. Существует объективный стандарт в подходе к толкованию Писания, и этому стандарту можно научить. Это не значит, что не придётся преодолевать никаких препятствий. Семинаристы, впервые приступая к изучению экзегезы, очень часто не имеют представления о существовании их собственного герменевтического «багажа», не говоря уже о существовании надлежащей герменевтики, которую они собираются изучать в семинарии. Ничего не зная об указанном багаже, они не способны оценить историческую и лингвистическую дистанцию между ними и текстом, в результате чего студенты начинают «вчитывать» в него свой личный опыт. Лучшее решение в такой ситуации – дистанцироваться («дистанциация»), что помогает нам разобраться с личными герменевтическими предпосылками и побороть весьма распространённую проблему эйзегезы или вчитывания в текст того или иного смысла. Аналогично, мы должны помнить о проблеме поверхностного сравнения – идее, что по причине внешнего сходства или созвучности разных отрывков они непременно должны говорить об одном и том же.
Как бы то ни было, оставленная без внимания, подобная слабость может способствовать упражнению не в экзегезе, а в отвлечённых факторах и предположениях. Вместо того чтобы позволить здравой герменевтике медленно, но верно привести нашу аудиторию к истине, мы можем оказаться перед лицом необходимости убеждать их, продираясь сквозь иллюзорную видимость библейских основ. Само собой разумеется, подобное ни в коем случае не должно заменить тщательную экзегезу на основании правильных принципов.
«Справочник общественного поклонения» суммирует принципы герменевтики следующим образом: «Возводя доктрины из текста, он [проповедник] должен, в первую очередь, позаботиться о том, чтобы это была истина Божья. Во-вторых, чтобы это была истина, содержащаяся в данном тексте или основанная на нём, дабы слушатели могли определить, как Бог учит их, исходя из него. В-третьих, он, в первую очередь, должен настаивать на тех доктринах, которые имеют основное предназначение в тексте и служат к назиданию слушателей».
Первый из этих критериев (то, что, в первую очередь, мы должны стремиться преподать Божью истину) чрезвычайно важен, но его сложно оценить в отдельности. Поэтому сосредоточимся на втором и третьем из упомянутых элементов, наряду с «правильной и очевидной последовательностью» взятых из «Исповедания» (ВИВ, 1:6). Итак, нам следует держать в голове следующие вопросы: «Указывает ли толкование на ту истину, которая преимущественно преподаётся в данном месте Писания?», «Используются ли более ясные отрывки Писания для интерпретации менее ясных?», «Наконец, можно ли назвать сделанные выводы правильной и очевидной последовательностью?».
Можно ли считать Келлера положительным современным примером этой реформатской методологии? Исследуя образцы герменевтики, продемонстрированной им, мы рассмотрим три потенциально проблемные области в его работах:
— Использование притч в качестве основного гаранта того, чему учит отрывок, или в качестве призмы для изучения экзегезы других текстов. Это очевидное нарушение принципа о том, что более ясные отрывки Писания должны служить для толкования менее ясных (ВИВ, 1:9).
— Использование второстепенных аспектов в тексте в качестве основного гаранта того, чему учит отрывок. Это очевидное нарушение принципа о том, что мы должны «в первую очередь, настаивать на тех доктринах, которые имеют основное предназначение» в том или ином тексте (СОП).
— Использование в толковании логических ошибок. Это очевидное нарушение принципа о том, что наше учение должно быть «либо ясно изложено в Писании, либо с правильной и очевидной последовательностью может быть выведено из него» (ВИВ, 1:6).
Опять же, мы не утверждаем, будто Келлер умышленно попадает в эти проблемы; также мы не считаем его единственным из проповедников за всю историю церкви, павших их жертвой. Вопрос лишь в том, считать ли его современным примером того, как церкви следует трактовать Писание.
Для начала рассмотрим, как Келлер использует притчи.
1. Использование притч.
В общем и целом, верное толкование притч – непростая задача. Более ясные отрывки Писания должны помогать трактовать менее ясные, а притчи определённо относятся к категории последних. Ученикам Иисуса никак не удавалось понять значение притч, пока Он Сам его не разъяснял, — и неспроста. Христос говорит им: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах…» (Евангелие от Луки 8:10). Иными словами, предполагается, что, сами по себе, притчи намеренно многозначительны. Следовательно, единственный безопасный способ разобраться в их значении – обратить пристальное внимание на богодухновенное толкование, которое обычно содержится в самом отрывке, а также поддерживается другими, более ясными местами Писания.
Некоторые из отличительных особенностей учения Келлера строятся на основании притч. Самый известный пример – «Расточительный Бог. Возрождение основ христианской веры», книга, переворачивающая традиционную парадигму о блудном сыне. В предисловии к ней Келлер объясняет, что конкретно привело его к мысли написать на заданную тему: «Я словно ощутил, что мне открылась тайная сущность христианства. За годы служения я часто возвращался к этой притче, чтобы учить и консультировать по ней. Я видел, как люди получали поддержку, откровение и помощь из этого отрывка, когда я объяснял его истинное значение; больше, чем из любого другого текста».[4]
Звучит весьма волнующе: «Я словно ощутил, что мне открылась тайная сущность христианства». Однако для тех, кто знаком с историей толкования этой конкретной притчи, это волнение омрачено определённой степенью беспокойства. Притча о блудном сыне использовалась в качестве основного текстуального доказательства принципиальной доктрины либерализма – всеобщего духовного отцовства Бога.[5] Совсем недавно епископ, отвергавший саму идею о личном Боге, использовал эту притчу в поддержку своего тезиса о том, что спасение состоит в психологической интеграции.[6] Если что-то в этой притче делает её столь притягательной в роли повода для создания ложной теологии, благоразумнее было бы подумать дважды и хорошенько взвесить новые открытия, обещающие перевернуть наши представления о христианской вере.
Имея в виду это предостережение, рассмотрим, как именно Келлер решает использовать эту притчу в своей книге «Расточительный Бог». Проблема заключается в самом построении книги, в которой она используется в качестве призмы для понимания всего остального: «Я обращаюсь к этой широко известной истории, записанной в пятнадцатой главе Евангелия от Святого Луки, чтобы проникнуть в самую сердцевину христианской веры… Я покажу, что эта история помогает нам понять Библию как единое целое».[7]
Мы уже видели, что – опираясь на слова Самого Христа, — притчи намеренно неясны. Исходя из текста «Вестминстерского исповедания веры», «когда возникает вопрос об истинном и полном смысле какого-либо места в Писании (которое не бывает многозначно, но однозначно), следует исследовать и познавать другие места, говорящие об этом более ясно» (ВИВ, 1:9). Поскольку это так, трудно придумать концепцию, в большей степени противоречащую правильной герменевтической процедуре, чем использование притчи для определения христианской веры и, как следствие, понимание всего остального Писания в свете этого определения. Если в ходе своего изложения Келлер каким-то образом сумел избежать ошибок, перевернув базовый принцип практики толкования с ног на голову, он всё же подаёт нам всем крайне дурной пример.
Другой пример использования Келлером притч мы находим в его рассуждениях об аде в книге «Разум за Бога. Почему среди умных так много верующих». Многократно цитируя К.С. Льюиса, Келлер осознаёт необходимость показать, что это учение («самоизбранность» ада, куда Бог не посылает людей, откуда люди не слишком стремятся выбраться, и где наказание, в первую очередь, принимает форму психологического распада) можно обнаружить в Писании.[8] Для выполнения этой сложной задачи им была выбрана притча о Лазаре и богаче из шестнадцатой главы Евангелия от Луки.
С самого начала подход Келлера выглядит крайне проблематично. Притча не должна служить главным библейским обоснованием для той или иной доктрины. Если это учение находится в других местах Писания, то они и должны служить первичными экзегетическими доказательствами. С другой стороны, если среди десятков отрывков на тему ада, которые не являются притчами, Келлер не сумел найти недвусмысленной поддержки своего учения, вероятно, это следовало счесть предостережением. Ещё раз, если Келлеру каким-то образом удаётся избегать серьёзных проблем, проводя столь необдуманную и опрометчивую процедуру, то отнюдь не благодаря тому, что он является примером наилучшей герменевтической практики.
Ситуацию усугубляет то, что Келлер уделяет особое внимание лишь некоторым аспектам притчи, полностью игнорируя все остальные. Приведём подробную цитату: «Притча Иисуса о Лазаре и богатом человеке из 16 главы Луки подтверждает изложенные здесь представления об аде. Лазарь – нищий, который просил подаяния у ворот жестокого богача. Оба умерли, и Лазарь попал на небеса, а богач – в ад. Подняв глаза, он увидел Лазаря на лоне Авраамовом [цитирует Евангелие от Луки 16:24-31]. Поразительно: хотя герои этой притчи поменялись местами, богач по-прежнему слеп и глух к происходящему. Он все ещё ждёт, что Лазарь будет служить ему и носить воду. Он не просит вызволить его из ада, но недвусмысленно намекает, что Бог не дал ему и его близким достаточно информации о жизни после смерти. Комментаторы отмечали невероятную степень отрицания, склонность к обвинениям и духовную слепоту этой души, оказавшейся в аду. Кроме того, они указывали, что богачу, в отличие от Лазаря, так и не было дано имя в притче. Он назван просто “богачом”, и это намёк: поскольку основой его идентичности служил не Бог, а богатство, вместе с богатством он утратил всякое ощущение своего “Я”».[9]
Кратко отметим моменты, которые решил выделить Келлер: богач утратил связь с реальностью, утратил самосознание и не просит выпустить его из ада. Первый, вероятнее всего, правда, второй – мысль интересная, но спорная, а третий – довольно грубый и даже вопиющий аргумент по умолчанию (то, что богач не желает покидать ад).
Теперь отметим пару моментов, которые Келлер оставляет без внимания. Во-первых, утверждения: «И в аде, будучи в муках» и «Ибо я мучаюсь в пламени сём» (Евангелие от Луки 16:23-24) представляют собой отличный вариант объяснения природы (традиционное адское пламя) и источника (наложены Богом) страданий богача в аду. Во-вторых, фраза «утверждена великая пропасть» (Евангелие от Луки 16:26) предлагает нам гораздо лучшее объяснение того, почему богач не покидает ад, чем предположение, что он просто этого не хочет. Складывается впечатление, что единственный способ подогнать этот отрывок под идею К.С. Льюиса об аде (что и делает Келлер), — это использовать чрезвычайно избирательный подход к его толкованию. Однако подобных уловок следует ожидать лишь в том случае, если притчи используются в прямом противоречии стандартам реформатской герменевтики.
2. Использование второстепенных аспектов.
Вторая сфера, вызывающая беспокойство, — это использование Келлером второстепенных аспектов текста в качестве главного обоснования для того, чему он хочет научить; очевидное нарушение принципа, что мы должны, «в первую очередь, настаивать на тех доктринах, которые имеют основное предназначение» в том или ином тексте. Одним из примеров такого нарушения может служить толкование Келлером инцидента с Мариам в 12 главе Чисел: «В промежутке между обетованием из двенадцатой главы Бытия и его воплощением в Книге Откровение Библия наносит многочисленные удары по расизму. Сестра Моисея Мариам была наказана Богом за то, что отвергла африканскую жену Моисея из-за её расы (Числа, 12 глава)».[10] Тот, кто не был знаком с этим отрывком из Ветхого Завета, вероятно, предположил бы, открыв двенадцатую главу Чисел, что он найдёт там чёткое объяснение, как Бог наказал Мариам за расизм. Но это совсем не то, что мы там находим.
В начале отрывка говорится, что «упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял, — ибо он взял за себя Ефиоплянку» (Числа 12:1). Если полностью изолировать этот стих, теоретически возможно, что действия Аарона и Мариам были продиктованы расизмом. Однако, читая его в контексте, скорее, можно предположить, что они обвиняют Моисея в нарушении Божьего запрета на бракосочетание с язычниками (Второзаконие 7:1-4, Исход 34:11-16).
В любом случае, утверждение Келлера относится не к мотивации Мариам, а к тому, за что Бог её наказал («сестра Моисея Мариам была наказана Богом за то, что отвергла африканскую жену Моисея из-за её расы (Числа, 12 глава)»). Но ведь Сам Господь определённо даёт нам совершенно другое объяснение: «И сказал: слушайте слова Мои: если бывает у вас пророк Господень, то Я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним; но не так с рабом Моим Моисеем, — он верен во всём дому Моём: устами к устам говорю Я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит; как же вы не убоялись упрекать раба Моего, Моисея? И воспламенился гнев Господа на них, и Он отошёл» (Числа 12:6-9).
Бог недвусмысленно объяснил, за что упрекает Аарона и Мариам, и это не имеет никакого отношения к расизму. Господь признал Моисея «верным во всём дому Моём» и даровал ему беспрецедентную привилегию общения лицом к лицу. В свете вышесказанного Бог спрашивает: «Как же вы не убоялись упрекать раба Моего, Моисея?». Мариам была наказана Богом не за то, что она «отвергла африканскую жену Моисея из-за её расы», а за то, что отвергла предопределённый свыше авторитет Моисея. Келлер упускает возможность преподать «основное предназначение» этого текста – к слову, в современном мире грех бунта против законной власти столь же распространён, как и расизм, — и вместо этого использует второстепенную деталь (расу жены Моисея) в качестве главного обоснования того, чему этот отрывок вовсе не учит.
Другой пример этой проблемы можно увидеть в отношении Келлера к учреждению диаконата (Деяния 6:1-7): «Наконец, в шестой главе Деяний, когда было утверждено служение диаконов, Лука добавляет: “И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме” (стих 7). Слово “и” указывает на причинно-следственную связь. Распределение ресурсов между представителями разных классов – “нуждающимися” и теми, кто был достаточно богат, чтобы продавать свою собственность, — было крайне редким явлением для греко-римского мира. Практические действия христиан, направленные на людей в нужде, настолько поразили наблюдателей, что заставили их открыться для принятия евангельского послания».[11]
На основании этого утверждения, можно было бы предположить, что в шестой главе Деяний нам встретится повествование о том, как люди, изумлённые щедростью христиан, прислушались к евангелию. Подобные отчёты встречаются повсюду на страницах Книги Деяний; более десяти раз Лука рассказывает о реакции людей на различные значимые события, указывая на конкретную причину такой реакции.[12] Однако в описанном выше случае ничего подобного в тексте нет.
Согласно объяснению самих апостолов, проблема заключалась в том, что им приходилось отвлекаться от возложенной на них миссии: «Нехорошо нам, оставив слово Божие, пещись о столах». Поэтому они установили систему диаконата с конкретной целью: «А мы постоянно пребудем в молитве и служении слова». Следствием такого единомыслия и сосредоточенности на том, чтобы поступить по благодати, стало следующее: «И слово Божие росло». Совершенно ничего не сказано ни о том, что щедрость церкви была замечена внешним миром, ни о том, что это их поразило, ни о том, что это расположило их к принятию евангельского послания. Утверждение, будто «практические действия христиан, направленные на людей в нужде, настолько поразили наблюдателей, что заставили их открыться для принятия евангельского послания», — увлекательное допущение, но это заведомо не является экзегезой. Келлер вновь упускает возможность научить той основной истине, которая передана в отрывке: дьяконы были поставлены на служение, чтобы служители Слова могли сосредоточиться на молитве и проповеди. Келлер использует поверхностные детали в качестве обоснования того, о чем в отрывке вовсе не идёт речь.
Ещё один пример невнимания Келлера к тому, на что в основном направлен текст, или к главенству других, более ясных отрывков Писания, мы находим в его книге «Служение милосердия»: «Прежде всего, существует вопрос необходимости милосердия в самом нашем существовании в качестве христиан. Мы не должны упустить из вида тот факт, что эта притча – ответ на вопрос: “Что мне делать, чтобы унаследовать жизнь вечную?”. Иисус отвечает, указывая экспертам закона на пример доброго самарянина, который позаботился о физических и экономических нуждах человека, найденного им на дороге. Помните, что в Евангелии от Марка 10:17 тот же самый вопрос Иисусу задал молодой богатый правитель. В том случае Иисус подводит черту, говоря: “Пойди, всё, что имеешь, продай и раздай нищим” (ст.21). Похоже, Иисус рассматривает заботу о бедных, как часть сущности самого бытия христианина».[13]
Келлер не хочет, чтобы мы «упустили из вида тот факт, что эта притча [о Добром самарянине] – ответ на вопрос: “Что мне делать, чтобы унаследовать жизнь вечную?”». Первоначальной реакцией Иисуса были слова: «Что сказано в законе?», а затем: «Правильно ты отвечал; так поступай, и будешь жить» (Евангелие от Луки 10:28). Иначе говоря, Иисус не даёт здесь определения «сущности самого бытия христианина», а, скорее, объясняет, каковы стандартные требования для оправдания делами. И молодой правитель, и законодатель пытались оправдаться послушанием закону, а Иисус избавил их от тщетных притязаний (второе использование закона (ВИВ, 19:6)). Позднее в той же книге Келлер признает это, но эти два момента остаются никак не связанными.[14]
В любом случае, «забота о бедных», несомненно, вписывается в рамки закона, а не евангелия, и ни один из элементов исполнения закона невозможно определить как «сущность самого бытия христианина».[15] Келлер прав, задавая следующий вопрос: «Разве не спасены мы верой в одного лишь Христа? Тогда почему служение милосердия кажется столь важным для самого определения христианина?». Однако странно, что он не позволяет ни этому центральному учению Реформации, пронизывающему всё Писание, ни собственному пониманию основной цели этого отрывка контролировать его экзегезу, предпочитая сделать громкое заявление: «Иисус рассматривает заботу о бедных, как часть сущности самого бытия христианина».[16]
3. Логические ошибки в толковании.
Наконец, мы рассмотрим очевидное использование Келлером логических ошибок в толковании. Мы знаем: то, чему мы учим, должно быть «либо ясно изложено в Писании, либо с правильной и очевидной последовательностью может быть выведено из него» (ВИВ, 1:6). Поэтому нам следует быть осторожными, чтобы те выводы, которые мы делаем, исходя из текста Писания, были его «истинным и полным смыслом», а не логической ошибкой. Тем не менее, забота об этом не всегда встречается на страницах работ Келлера.
Одна из таких ошибок появляется в подходе Келлера к вопросу послушания закону в его книге «Расточительный Бог»: «Понимаете, чему учит здесь Иисус? Ни один из сыновей не любил отца. Они оба использовали его для своих эгоистичных целей, вместо того чтобы любить его, наслаждаться его обществом и служить ему ради него самого. Это означает, что вы можете бунтовать против Бога и быть отчуждены от Него, нарушая Его постановления или усердно соблюдая их все. Это шокирующая мысль: тщательное следование Божьему закону может служить стратегией в восстании против Бога».[17]
«Шокирующая мысль» Келлера, прежде всего, строится на предположении, что старшего брата, по изначальному замыслу, следует считать потерянным, – отнюдь не очевидная интерпретация в контексте 15 главы Евангелия от Луки.[18] Как бы то ни было, ради достижения нашей цели, согласимся с этой предпосылкой, чтобы указать, что сделанный им вывод зиждется на заблуждении. Логическое построение Келлера выглядит примерно так:
«Старший брат заявляет, что был послушен своему отцу.
При этом он отчуждён от отца.
Следовательно, тщательное послушание закону может служить стратегией для бунта».
Это умозаключение нельзя назвать хорошим по двум причинам. Во-первых, из истории о богатом молодом правителе мы должны понять, что нельзя по умолчанию считать, будто человек всегда следовал букве закона только потому, что он сам об этом заявляет (Евангелие от Матфея 19:20).
Во-вторых, даже если старший брат старался соблюдать закон, существует и другое объяснение, почему он может быть отчуждён. Давайте рассмотрим следующий аргумент:
«Человек каждую неделю стрижёт газон.
При этом газон всё равно остаётся коричневым и сухим.
Следовательно, добросовестный уход может служить стратегией для того, чтобы погубить лужайку».
Конечно, существуют и другие объяснения, почему засох газон, — например, тот факт, что он заражён вредителями или его никогда не поливают. Подобным образом и послушание закону всегда хорошо само по себе, но наши взаимоотношения с Богом могут быть окончательно подорваны по совершенно другим причинам (Римлянам, 7 глава). Несомненно, Келлеру об этом известно, и он мог бы сформулировать свою мысль так, чтобы аккуратно и сбалансированно передать библейское учение, но высказывание о том, что «тщательное следование Божьему закону может служить стратегией в восстании против Бога»[19] непростительно с точки зрения экзегетики.
Другой важный пример мы находим в «Служении милосердия». Процитировав 8 главу Послания Римлянам, Псалом 95, К.С. Льюиса и 5 главу Евангелия от Матфея, Келлер обращается к разбору гимна «Радуйся, мир», написанного Исааком Уоттсом (Joy to the World, by Isaac Watts):
”Чтобы тернистым не был путь,
Грехи и скорбь ушли,
Он к нам придёт. Он блага шлёт
во все концы Земли…”
Царство Божье – средство обновления всего мира и всех аспектов бытия. От престола Иисуса Христа изливается новая жизнь и такая сила, что перед ней не могут устоять ни болезни, ни разложение, ни бедность, ни пороки или боль. Если таково служение Царства – исцелять все последствия греха во всех областях жизни, — то церковь должна старательно использовать свои ресурсы для служения на каждом “уровне”. Мы не должны ограничиваться одной только евангелизацией, но должны быть церковью “с полным спектром услуг”… Царство Божье – это сила, господствующая сила Божья, способная исцелить всё проклятие греха».[20]
Прежде всего, нежелательно выводить основание для внесения поправок в миссию церкви из текста гимна, каким бы популярным он ни был. Даже если Уоттс просто перефразировал Писание, было бы лучше обратиться к самому библейскому тексту.
Как бы то ни было, основная проблема заключается в том, насколько логично использование Келлером конструкции «если… то» в качестве перехода между будущим состоянием и его выводами относительно миссии церкви. Христос действительно вернётся в конце времён, чтобы сотворить новое небо и новую землю, где не останется ни следа от проклятия. Однако, едва ли столь же очевидно, что эта будущая эсхатологическая реальность предусматривает, будто по этой причине в настоящее время воинствующая церковь должна «старательно использовать свои ресурсы для служения на каждом “уровне”» и «быть церковью “с полным спектром услуг”».[21] Нам обещано, что в условиях нового неба и новой земли больше не будет проклятия, но это вовсе не означает, что миссия церкви – добиться этого уже сегодня, в полном противоречии всему, что ясно говорится на эту тему в Писании (Евангелие от Иоанна 18:36, Евангелие от Матфея 28:19-20, Евангелие от Марка 16:15). Если наш стандарт – учить только тому, что «либо ясно изложен в Писании, либо с правильной и очевидной последовательностью может быть выведен из него» (ВИВ, 1:6), этот эпизод не может служить хорошим тому примером.
Заключение
Главный вопрос, который мы поднимаем в этой статье, звучит так: могут ли работы Келлера служить последовательным примером реформатского метода в герменевтике? Точнее, указывают ли его толкования на ту истину, которая «главным образом преподаётся» в этом отрывке? Можно ли сказать, что он постоянно старается, чтобы более ясные места Писания толковали менее ясные? Можно ли назвать его выводы из текста Писания «правильной и очевидной последовательностью»? На основании приведённых мной примеров, я вынужден ответить, что Келлер не придерживается этих принципов последовательно и постоянно. Несомненно, внимательно просматривая работы практически каждого из учителей и проповедников, мы, вероятнее всего, сумеем откопать те или иные экзегетические заблуждения. Если и есть какое-то отличие в случае с Келлером, то это относительная известность его отступлений от стандартов. Действительно, именно с ними связаны некоторые из отличительных особенностей учения Келлера, сделавшие его столь популярным. По этой причине мы вынуждены прийти к заключению, что труды Келлера не являются наилучшим примером для подражания.
Толкование и применение Писания – огромная, порой сокрушительная ответственность. Это обязует нас демонстрировать не просто обоснованность определённого способа аргументации, но согласованность наших выводов с непогрешимым Божьим Словом. На каждом, кто намерен сеять семена этого Слова, лежит обязанность иметь ясное понимание и презентацию текста, поскольку у нас нет власти говорить что-то, кроме этого. Герменевтическая ловкость рук исключается; значение имеет только верность. Мы действуем осторожно, опираясь на правильные принципы экзегетики и герменевтики, а затем со всей страстью передаём наше послание, всегда настаивая «на тех доктринах, которые имеют основное предназначение» (СОП). Что касается практики реформатской герменевтики, церковь должна продолжать выбирать для себя образцовые модели и подражать им.
Примечание
1. К.С. Льюис. Письма (C. S. Lewis, Letters (London: Fount, 1988), p. 485).
2. Брайан Хики пишет: «В этой последней работе Келлер достиг больших успехов, объясняя христианам и не христианам, как следует подходить к чтению и пониманию писаний» http://thechiefend.net/2010/02/the-prodigal-god-hermeneutics-for-the-uninitiated/ (link no longer available).
3. Как это широко известно, «Вестминстерское исповедание» послужило основанием для «Савойской декларации» (конгрегационализм) (1658) и «Баптистского вероисповедания» (1689).
4. Prodigal God (Расточительный Бог), Xiii.
5. См., например, дискуссию Дж. Грешема Мэйчена в его книге «Христианство и либерализм» (J. Gresham Machen, Christianity and Liberalism (Grand Rapids: Eerdmans, 2009), pp.51-53).
6. См. Джон Робинсон «Быть честным перед Богом» (John Robinson, Honest to God (London: SCM Press, 1965)).
7. Prodigal God (Расточительный Бог), pp. xii; xiv.
8. Reason for God («Разум за Бога»), pp. 76–80
9. Reason for God («Разум за Бога»), 77-78.
10. Generous Justice, p.123.
11. Generous Justice, p.140-141.
12. Паломники, наполнившие Иерусалим, были поражены тем, что апостолы заговорили на их родных языках (Деяния 2:7-13); людей потрясло исцеление Петром человека, хромого от рождения (Деяния 3:9-11); люди прославляли Бога за это чудесное исцеление (Деяния 4:21); страх обуял тех, кто услышал об Анании и Сапфире (Деяния 5:11); люди почитали апостолов за те знамения и чудеса, которые те совершали (Деяния 5:12-13); Симон приводил самарян в изумление своей магией (Деяния 8:9); людей поразило, что Саул, преследовавший христиан, сам стал верующим (Деяния 9:21); народ восхваляет Ирода, чтобы его умиротворить (Деяния 12:20-22); жители Листры сочли Павла и Варнаву богами, поскольку те исцелили хромого человека (Деяния 14:11); в Ефесе толпа пребывала в смущении, поскольку большинство из них не знали, зачем собрались (Деяния 19:32-34); жители Иерусалима возмутились против Павла (21:30-36), но замолчали, когда он обратился к ним на еврейском языке (22:2), а затем разгневались, когда он упомянул о язычниках (21:21-23).
13. Ministries of Mercy («Служение милосердия»), pp. 11–12.
14. Позднее Келлер верно формулирует цель Иисуса: «Он стремился поставить в тупик знатока закона видением бескорыстной любви столь высокой, что она невозможна… Истинной целью Иисуса было показать знатоку закона, насколько жалки его попытки оправдать себя…» («Служение милосердия», стр.59). Всё верно. Христос устанавливает стандарт невозможной высоты, чтобы указать знатоку закона на невозможность оправдания самого себя. Почему же Келлер считает, что это видение невозможной любви – безоговорочное требование для всех нас? Он говорит: «Словами: “Иди, и ты поступай так же” Иисус повелевает нам обеспечивать крышу над головой, финансы, медицинскую помощь и дружбу людям, которым их недостаёт. У нас есть ни больше, ни меньше, как повеление от нашего Господа, высказанное в самой категоричной форме. “Иди, и ты поступай так же”» («Служение милосердия», стр.11). Эта взаимосвязь является центральной темой и движущим импульсом всей книги.
15. См. Галатам 2:16.
16. «Служение милосердия», стр.12. В целом, складывается впечатление, что существует постоянное напряжение между риторическим эффектом и здравой герменевтикой. Например, Мозес Сильва предполагает, что «большая часть аллегорических выражений берёт начало из необходимости в риторическом эффекте… настолько, что, как следствие, прихожане учатся искать в тексте “скрытый” смысл, так что текст либо подвергается большему искажению, либо отчуждается от обычного верующего, неспособного преподнести экзегетических сюрпризов» (Moises Silva, ‘Towards a Definition of Allegory’, в книге Has the Church Misread the Bible? [Grand Rapids: Eerdmans, 1999], p.56).
17. Prodigal God (Расточительный Бог), 36-37.
18. В соответствии с темой, заявленной во введении и первых двух притчах из 15 главы Евангелия от Луки, кто-то мог бы возразить, более естественной интерпретацией текста будет мысль, что только один из двоих сыновей был потерян.
19. Prodigal God (Расточительный Бог), p.37. На самом деле, Келлер чуть более осторожен в построении фраз, когда он не занят прямой интерпретацией текста: «Вы можете отвергать Бога, отвергая Его закон и выстраивая свою жизнь так, как вы считаете нужным. И можно отвергать Бога, принимая Божий закон и послушаясь ему так, как если бы вы старались заработать своё спасение» («Центральная церковь» (Center Church, p.63; курсив добавлен автором статьи).
20. Ministries of Mercy («Служение милосердия»), pp. 52, 53
21. В других местах Келлер собирает тексты (Евангелие от Луки 17:20-21 показывает, что Царство уже присутствует, а Евангелие от Иоанна 3:5 подчёркивает, что в Царство можно войти уже сейчас при помощи нового рождения), не уделяя достаточного внимания важнейшему вопросу о том, как именно в этих текстах определяется «царство». См. также главу 4.
Если вам понравилась статья, поделитесь ею со своими друзьями в соц. сетях!






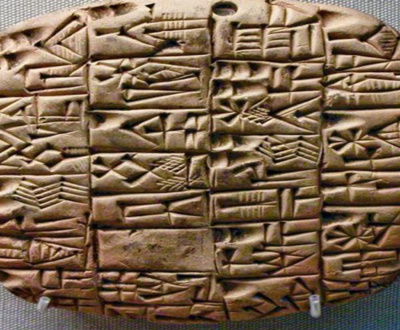


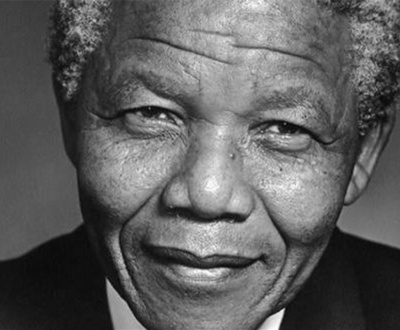

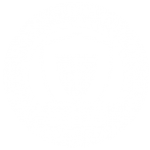 При использовании материалов служения «Апологетика Библии» прямая ссылка на веб-сайт
При использовании материалов служения «Апологетика Библии» прямая ссылка на веб-сайт